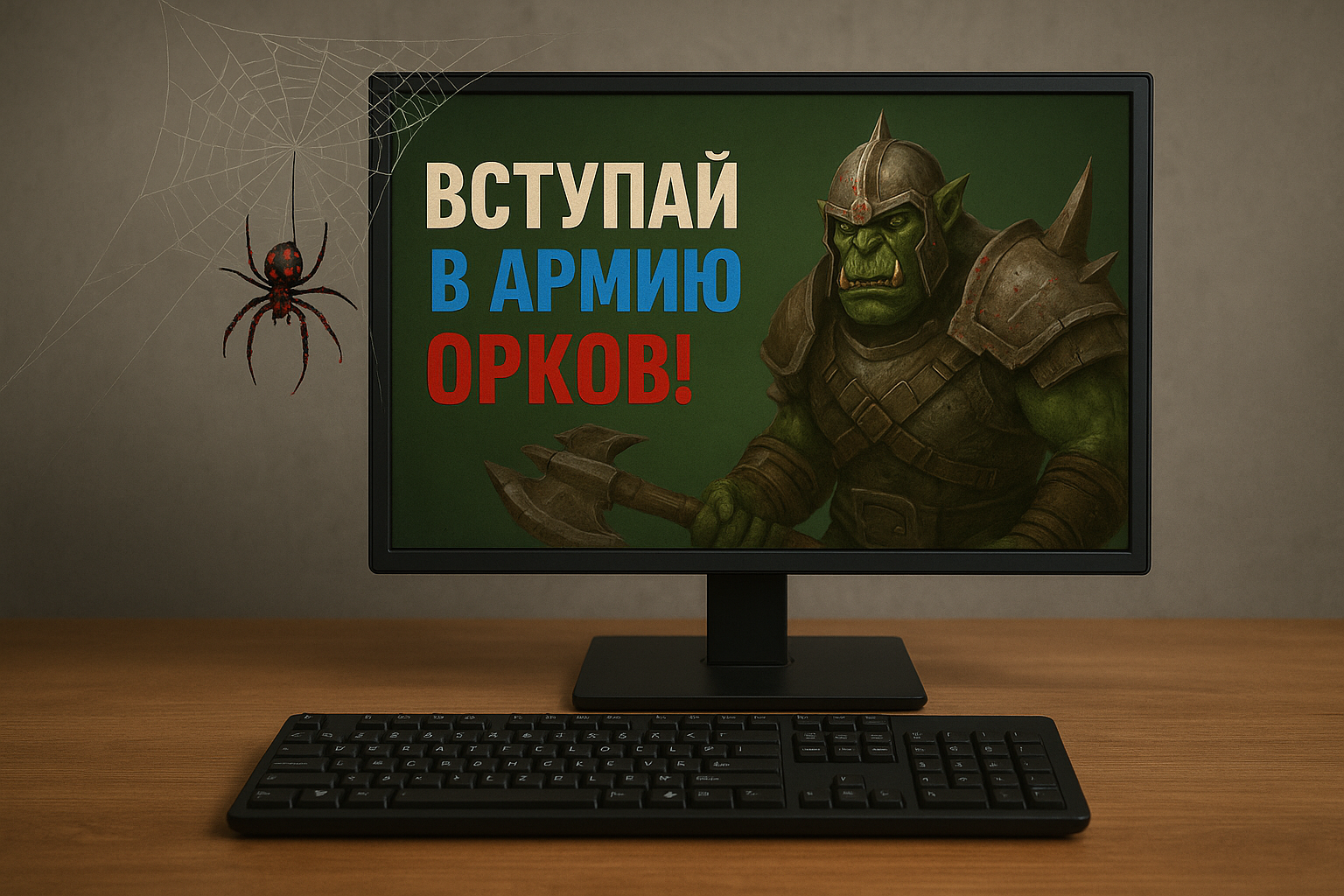
В 2020-м власть декларировала “бессрочные” налоговые послабления для IT, чтобы удержать, если не вернуть, специалистов в Россию и стимулировать развитие отрасли. Но обещанное “навсегда” ожидаемо оказалось “херсонским”. Осенью 2025 года стало известно: льготы покидают айти-сектор как российская армия три года назад — упомянутый украинский город.
ПРЯНИК ОТ ПУТИНА
В июне 2020 года Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах поддержки ИТ-сектора: снижение страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%. В тот же день было подчеркнуто, что обе меры будут «бессрочными». 31 июля 2020 года эти положения закрепил закон № 265-ФЗ.
Политический контекст тех лет ясен: пандемия, ускоренная цифровизация, массовый рост эмиграционных настроений среди IT-специалистов. Государство стремилось удержать отрасль, предлагало особый налоговый режим и фактически сигнализировало: “для вас — исключение, только не уезжайте”. Верность этому курсу РФ подтвердила даже осенью 2022 года, в разгар частичной мобилизации. Айтишникам щедро обещали (и раздавали) брони от армии.
СМЕНА КУРСА
Осенью 2025 года Минфин в проекте «Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг.» предложил поднять льготный тариф страховых взносов для аккредитованных ИТ-компаний с 7,6% до 15%. Новая ставка налога на прибыль для айти, обнулявшаяся в 2022–2024 годах, была утверждена на уровне 5% ещё раньше — с начала 2025-го (её пообещали продержать на неизменном уровне до 2030 года).
Ключевая деталь: ставка 7,6% сохранится только на доходы сверх предельной базы, которая в 2025 году составляет 2,759 млн ₽ в год (около 230 тыс. ₽ в месяц) . То есть:
- На часть зарплаты до этой суммы включительно — 15%;
- На всё, что выше — 7,6%.
Фактически с 2026 года айтишная «льгота» превратится в преимущество лишь для топ-менеджеров с зарплатами значительно выше рыночных. Для основной массы айти-спецов налоговая нагрузка возрастает почти вдвое.
Упомянутые 2 759 000 ₽ в год это типичная белая зарплата в отрасли (≈ 230 000 ₽/мес). Легко заметить, что страховые платежи компании за одного сотрудника с такой зарплатой практически удвоятся:
- Было (7,6%): компания платит в бюджет 209 684 ₽ за человека в год.
- Станет (15%): компания будет платить 413 850 ₽ за человека в год.
То есть раньше за «условный миллион с хвостиком» взносов компания могла позволить себе держать в штате, округлённо, пятерых сотрудников с такой белой зарплатой, а теперь — двух с половиной (в реальности, скорее всего, из пятерых останутся или два сотрудника со старой конкурентной зарплатой, или — три, но с новой, компактной).
Сокращения — зарплат или персонала либо и того, и другого — отрасль ждут неизбежно. С нового года айти-бизнес попадает на десятки миллионов дополнительных издержек и оказывается перед выбором: либо урезать бонусы/индексации, либо резать найм, либо уходить в серые схемы — других источников компенсации у бизнеса нет.
Размеры переплат для компаний отрасли (исходя из упомянутой зарплаты в 2,7 млн):
- Штат 100 человек → +20,4 млн ₽ в год сверху.
- Штат 300 человек → +61 млн ₽ в год.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: КТО ПЛАТИТ?
Формально страховые взносы перечисляет работодатель, но делает он это в роли налогового агента — посредника между вами и государством. Эти деньги удерживаются из вашего дохода, просто не проходят через ваши руки: работодатель обязан перечислить их напрямую в бюджет. Экономически страховые взносы — часть фонда оплаты труда (ФОТ), то есть общей суммы, во сколько сотрудник обходится компании. Работодатель смотрит не на «зарплату на руки», а на полную стоимость рабочего места — зарплата + налоги + взносы.
Если нагрузка растёт, компенсировать это можно только двумя путями:
- уменьшить чистые выплаты сотруднику (зарплату «на руки» или бонусы),
- сократить найм.
Во многих странах это очевидно, хотя внешне кажется, будто «работодатель платит за вас что-то сверху». На деле это ваши же деньги. Поэтому повышение ставки взносов означает, что работник становится дороже для компании, а его чистая зарплата оказывается под давлением, даже если цифра в трудовом договоре не изменилась.
ЗАТРОНЕТ ДАЖЕ ГИГАНТОВ
Возьмём одну из крупнейших российских софтверных компаний — VK. Это а гигант, который олицетворяет весь сектор: аккредитованная IT-компания, публичная отчётность, десятки тысяч сотрудников. По сути, идеальный барометр для оценки эффекта реформы. Возьмём для иллюстрации отчётные данные за 2024 год:
Персонал — 12 952 сотрудников,
Общие расходы на персонал (весь ФОТ с налогами и соцпакетами) — 67,3 млрд ₽
Выручка — 147,6 млрд ₽
Чистый убыток — 94,9 млрд ₽
Источник данных: VK Databook FY 2024 (ENG), стр. 16 — финансовые итоги года; стр. 42 — персональные расходы.
Теперь добавим новое правило игры: взносы в 15% и будем исходить из посылки, что 70–80% сотрудников получают зарплату, приближенную к предельной базе в 2,7 млн. Легко подсчитать, что у компани появляется допрасход в размере 2,3–2,6 млрд ₽ в год. Это 3,5–3,9 % от ФОТ и около 2 % годовой выручки.
Для бизнеса с маржой, колеблющейся вокруг нуля, — удар весьма ощутимый: два процента оборота могут разделить прибыльный и убыточный год.
С точки зрения макроэкономики эффект кажется «терпимым», но на практике он ложится на уже убыточную компанию и может подтолкнуть управленцев к предсказуемым шагам:
- мораторий на найм (классическая мера VK в кризисные периоды);
- заморозка индексации зарплат, что в условиях ускоряющейся инфляции означает прямое снижение реальной покупательной способности сотрудников;
- оптимизация штата через естественную текучесть, укрупнение команд и, возможно, точечные сокращения.
В ОЖИДАНИИ ВЕРХНЕГО ЛАРСА-2.0
Для компаний уровня VK «резать» расходы на наёмную силу можно почти бесконечно — за счёт фрилансеров, подрядчиков и переводов штатных сотрудников в ИП или самозанятые. Но совокупный эффект на отрасль очевиден: меньше найма, меньше внутренних инвестиций, меньше денег в экономике — при том, что именно IT-сектор даже все последние годы оставался одной из немногих экспортноспособных отраслей.
На это накладываются другие негативные для экономики РФ эффекты: общая экономическая рецессия, сужающая круг заказчиков; отказ зарубежных заказчиков от привлечения российских подрядчиков на фоне санкционных войн и поэтапного выключения России из мировой экономики; отток IT-кадров в зарубежные юрисдикции.
Дальнейшее ужесточение правил, включая пересмотр критериев отсрочек от мобилизации, только подстегнёт бегство айтишников. К слову весной 2025-го старые брони были отменены, а новые процедуры создали почву для ещё более избирательного подхода.
В совокупности это выглядит как ликвидауия «особого режима», введённого пять лет назад. Налоговый манёвр 2020 года демонстрировал готовность государства создавать исключительные условия для айти. Пять лет спустя эта политика сворачивается. Новый тренд — последовательное снятие льгот. И очередной “штурм” Верхнего Ларса теми, кто ещё не успел выехать осенью 2022-го или вернулся, поверив обещаниям государства про льготный режим.



